Изображение сгенерировано с помощью нейросети
На днях стало известно: более 1800 жалоб о неподобающем поведении и буллинге детей со стороны учителей и одноклассников поступили прокурорам Казахстана – через чат-боты в Telegram и QR-коды в школах. После проверок 192 человека понесли административное наказание, остальным было достаточно профилактических бесед. Это только подтверждает, что работа с психологом важна и нужна, чтобы вовремя предупредить конфликты и помочь разрешить ситуацию.
Исполняющая обязанности руководителя Центра психологической поддержки при управлении образования Татьяна Любчанская делится: мы живём в сложном мире – уровень стресса высок как никогда, несмотря на то, что все вроде бы одеты, обуты, имеют крышу над головой. Стресс и даже панические атаки возникают очень часто – и среди подростков, и среди взрослых. Штатные единицы психологов, добавляет, предусматриваются в школах с 2001 года – в каждой школе.
Дефицит кадров
Несмотря на наличие штатных единиц, есть школы, где психологов не хватает, говорит Татьяна Любчанская.
«Почти все это время наблюдается большая текучка – 20% ежегодно, последние пять лет это более 30%. Люди не хотят работать в напряженном режиме организации образования – поработав год, уходят, не справляясь с нагрузкой, которая на них наваливается. Дефицит педагогов-психологов в наших школах сохраняется, и не только среди них – даже в нашем центре специалистов не хватает. И проблема эта не только в Караганде: труд тяжёлый, зарплата небольшая, объем работы огромный. Есть школы, где на одного педагога-психолога приходится 700 детей, а помимо них работать приходится и с педагогами, и с родителями: встретиться с каждым из них физически хотя бы раз в год невозможно. И отследить эмоциональное состояние детей своевременно удается далеко не всегда. Это большая проблема, и вопросы, с которыми мы сейчас столкнулись — глобальные: они зависят не только от психолога, педагога, управления образования, но и от состояния в обществе в целом и в нашей стране, и во всем мире», — признаётся Татьяна Любчанская.

Татьяна Любчанская. Фото автора
Еще одна проблема, с которой специалист сталкивается уже много лет, касается программ в вузах: они сейчас не соответствуют запросу современной школы. Когда педагогов-психологов набирают в начале учебного года – а в сентябре приходит много новых людей, по области это в среднем до 60-70 человек – в центре проводят школу для молодых специалистов. Вовремя на курс попадают не все – по разным причинам: допустим, кто-то пришел уже после набора курса. Тогда делают повторный набор в середине учебного года.
«Есть, конечно, много думающей молодёжи. Кто-то пришёл в сферу образования, потому что больше нигде не может устроиться, кто-то приходит после декрета – но в этом случае мотивация выше: у людей – свои дети и желание помочь детям в целом. Есть и школьные психологи, которые трудятся в своей сфере от 10 до 15 лет, а кто-то и больше – и они очень любят своё дело. Когда такие специалисты проводят работу хорошо – её, как правило, не видно: никто её не афиширует», — рассказывает Татьяна Любчанская.
Важно вовремя поговорить
На практике Татьяны Любчанской случилась ситуация, когда педагог грубо выгнала ребёнка из класса: раздался хлопок двери, кто-то несётся по ступенькам…
«Я вылавливаю мальчика: он кричит, что больше ни минуты не останется здесь. Мы с ним заходим в кабинет. Говорили долго: я показала ему, что он не прав, что спровоцировал ситуацию – но педагога он простить не смог: для него это было оскорбление личности, поскольку мальчика на эмоциях назвали «бесполезным ископаемым». Я убедила его вернуться в класс: мы заранее вместе отработали, как и что он будет говорить. Он постучался, учитель его обругала – извинился, обругала ещё раз – стерпел, снова извинился, сел и закончил задание. С тех пор прошло 20 лет, но я этому учителю никогда не скажу, что исправление ситуации – моих рук дело. С ней, тем не менее, я тоже провела беседу: она перестала так резко ругать учеников. То есть мы не выставляем свой труд напоказ. Работаем с детьми, с родителями, гасим конфликты, снижаем уровень риска, но проблема остаётся – в обществе, в отношении людей друг к другу, в том, что происходит вокруг детей, и интернет не исключение», — делится Татьяна Любчанская.
Другой случай из её практики связан с тем, что одна из школьниц стала очень грубо общаться, а на вопрос, что случилось, в ответ прозвучало лишь холодное «ничего».
«Почему я обратила на это внимание – у девочки сменился тон голоса. Снова разговор: начались слёзы, оказалось, что её выгнали из дома, и ребёнок ночевал в подъезде, в итоге – отчаяние и незнание, как возвращаться домой. И в данном случае мы просто вовремя поговорили. Я предложила решение: прийти домой, молча обнять маму. Если выгонит – звонить мне, приеду. Девочка позвонила поздно вечером: к тому времени они с мамой со слезами на глазах говорили уже несколько часов. Поэтому в нашем труде как никогда важна наблюдательность», — резюмирует Татьяна Любчанская.
В работе школьных психологов, добавляет специалист, применяются исключительно педагогические и социальные методики, направленные на образовательный процесс. Работать можно как с группой учеников, так и индивидуально – но для индивидуальной сессии психолог сначала должен обязательно оповестить о ней родителей.
«Педагоги-психологи проводят диагностику, тестирования, анкетирования исключительно психолого-педагогического характера: это не клинические тесты, а мотивационные, адаптационные, они обязательно проводятся для всех в начале года. О них оповещаются все родители, пришедшие на родительское собрание – но тут надо сказать, что далеко не все родители ходят на собрания… В сентябре каждый психолог в каждом классе на родительском собрании должен рассказать, какие элементы психологического сопровождения будут использованы в учебном году. Потому что 1, 5, 10 классы ожидают адаптационные и мотивационные тестирования: важно понимать, есть ли у ребёнка мотивация к учебе, оценивается и тревожность, ведь она может снизить успеваемость. Если у детей фиксируется тревожность, над ней можно поработать углубленно – с разрешения родителей. А если ребёнок приходит в новый коллектив – психолог всё равно должен посещать уроки и наблюдать за ним: адаптацию дети переносят по-разному, и причины смены школы могут быть очень разные», — уточняет Татьяна Любчанская.
Проводятся и профориентационные тестирования. В начальной школе они помогают расширить знания ребёнка о мире профессий, в среднем звене – понять, какие навыки нужны для той или иной профессии, а в старших классах – помочь выбрать профессию для собственной траектории развития. И конечно, за настроенческими нюансами поведения педагоги-психологи тоже призваны наблюдать.
«Если дело касается выявления детей, склонных к суицидальному поведению – это, к сожалению, невозможно сделать просто так. Зачастую такие вещи – демонстративные, и в подростковом возрасте это те ситуации, которые включаются в порыве эмоций. По факту причинами чаще становятся проблемы дома: ребёнок в школе был спокойный, уравновешенный, выступал на мероприятиях – а потом его не стало, потому что в семье тяжёлая атмосфера. В любом случае таких деток можно заметить, если в школе очень наблюдательные педагоги, в том числе педагог-психолог», — уточняет Татьяна Любчанская.
Денежный вопрос
Другие проблемы, с которыми сталкиваются школьные психологи – зарплата и стоимость дополнительного обучения, которое в их профессии тоже необходимо. Оно может стоить 150 тысяч за два дня, а при этом месячная ставка человека может достигать 160 тысяч. Есть, более того, обучение из нескольких этапов, а их стоимость в сумме бывает ещё выше. Где взять такие средства?.. Тем не менее Центр психологической поддержки стабильно проводит обучающие семинары: здесь повышается компетенция, проводятся конкурсы и мастер-классы – с них участники возвращаются наполненные новой информацией.
«Я рада, что у нас в стране появились такие центры – эту идею мы вынашивали, ещё когда я работала в Учебно-методическом центре развития образования: психологам нужно, чтобы они тоже могли поделиться опытом с коллегами и спросить совета. Через нас проходит масса негатива, профессия педагога-психолога очень тяжёлая. Главная задача наша – быть, что называется, санитарно-гигиеничными», — делится Татьяна Любчанская.
Данные о работе педагогов-психологов поступают в управление образования – но это лишь цифры, объясняет Татьяна Любчанская. Они фиксируются в автоматизированной системе психолого-педагогического мониторинга (СППМ).
«В эту базу вносится число консультаций педагогов-психологов, их диагностики, но сохраняется неприкосновенность данных. То есть здесь мы видим лишь статистику: сколько в школе детей, сколько мальчиков или девочек, сколько особенных детей, сколько проведено коррекционных занятий, родительских собраний, профилактических мероприятий или коммуникативных тренингов. Никакая личная информация в базе не фиксируется», — уточняет Татьяна Любчанская.
Методики работы
Анастасия Карстен тоже работает в команде Центра психологической поддержки. За её плечами не один курс повышения мастерства, работа в общеобразовательных школах Караганды, в том числе тех, где обучаются и ребята с особыми потребностями. В одной из школ имелось два спецкоррекционных класса, рассказывает психолог – те, где учеников не больше девяти, и где обучались ребята из детского дома. В психологию Анастасия пришла осознанно: с детства хотела быть педагогом, а когда выбирала профессию 20 лет назад в вузах стран СНГ открывались специальности «Педагогика и психология». И уже в ходе обучения девушка поняла: ей это направление нравится.

Анастасия Карстен. Фото из личного архива
«В школе я работала в основном с детьми из 6-11 классов – нас, психологов, было два. В идеале, если в школе более 30 класс-комплектов, таких специалистов должно быть двое. У всех педагогов-психологов есть план работы по пяти направлениям: диагностика, коррекция, профилактика, просвещение и консультирование. И этот план работы – с детьми, педагогами и родителями – рассчитан на год. Консультирование уже идет по запросу: если ребёнку надо посетить психолога – он приходит на консультацию. Проводим и коммуникативные тренинги – и после тренинга, как правило, ты уже видишь, с какими детьми стоит отдельно поработать, либо дети сами подходят с вопросами, поскольку уже пропустили какие-то моменты через себя и осознали их. Но учитывая работу по плану, школьный психолог физически не может каждый день заниматься консультированием учеников, поэтому оно ведётся по записи», — объясняет Анастасия Карстен.
Вопросы, с которыми дети приходят к педагогу-психологу, бывают разного характера: профориентационные, учебные, но чаще – личностные, делится Анастасия. В старших классах это может быть тревога о том, как всё успеть, когда помимо уроков есть олимпиады, конкурсы, экзамены и другие подобные события. На первой индивидуальной консультации, если речь пойдёт о тревожности, важно понять, откуда эта тревожность возникла.
«И здесь подбираются определённые методы, чтобы работать с ребёнком – постепенно, деликатно. В ход идут проективные методики, помогающие пошагово выяснить корень проблемы: одна из них предполагает, например, работу с рисунками, которые предлагается выбрать, закрасить или изобразить. У детей могут быть рисунки с уроков труда или рисования, в тетрадях или на полях – анализируем их, смотрим на почерк, на реакции ученика на уроке. Если все эти данные в сумме своей указывают на тревожное состояние – сообщаем родителям, что с ребёнком важно встретиться на индивидуальной консультации. В моей практике, к примеру, имеется случай, когда у девочки были проблемы с опекуном: опекун говорил, что она постоянно лжёт – хотя в школе такого не замечалось. И с помощью нескольких видов проективной методики мы выяснили: проблема была в семье – а именно, в недоверии», — рассказывает Анастасия Карстен.
Ситуаций, касающихся буллинга, в её работе тоже немало:
«Сейчас часто говорят о буллинге, и таких случаев на моей практике хватает даже среди последних на данный момент кейсов. Явление это было и раньше – называлось только по-другому. В целом детали такого поведения можно заметить уже на профилактических мероприятиях, на коммуникативных тренингах, когда работаешь с группой. Обычно видишь лидера и ставишь ему определённые задачи, чтобы он понял другую сторону, если ребята страдают от этого лидера. Но в любом случае работать нужно и с обидчиком, и с жертвой», — объясняет Анастасия Карстен.
Говоря о том, какие результаты даёт работа педагога-психолога, Анастасия отмечает: в первую очередь, чётко видишь обратную связь от детей. Заходя в класс, замечаешь, как они разговаривают с педагогом, как по-другому идут на контакт между собой, меняясь в лучшую сторону. Тут срабатывает и «сарафанное радио»: один ребёнок пришёл на консультацию из любопытства – потом приходит другой, и после, например, уже полугода работы в школе число юных клиентов растёт. А главное – дети раскрываются и, видя это, понимаешь: свою работу делаешь не зря.
Могут ли педагоги-психологи консультировать учителей?
В ответ на этот вопрос Анастасия Карстен уточняет: в данном случае это возможно в отношении учебного процесса и нюансов работы на месте:
«Согласно должностным инструкциям, школьный психолог может обсудить со своим коллегой вопросы, касающиеся образовательного процесса: конфликт между учениками, между учеником и учителем. Но если учителю нужна полноценная консультация, для этого лучше увидеться с психологом со стороны. Тем не менее педагог-психолог может работать с группой учителей по вопросу выгорания – на каникулах, например. Такие встречи призваны помочь не только снизить уровень выгорания, но и повысить их собственные психолого-педагогические компетенции – чтобы, наблюдая за детьми, вовремя понять, что тому или иному ребёнку нужна помощь», — поясняет Анастасия Карстен.
Центр психологической поддержки при управлении образования находится по улице Алиханова, 19, второй этаж. По всем необходимым вопросам в центр можно обращаться по телефону 8 (7212) 60-44-25.
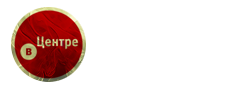



Комментарии закрыты.